Новости от генетиков поражают воображение: ученые научились бороться со старостью, записывать музыку на ДНК и распутывать семейные истории с помощью ДНК-тестов. Чего в этих сообщениях больше — правды или научного вымысла, — мы узнавали у доктора медицинских наук, зав. лабораторией наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра РАМН Екатерины Захаровой.
Екатерина Юрьевна, над чем работают сейчас российские генетики, какие секреты генома раскрывают?
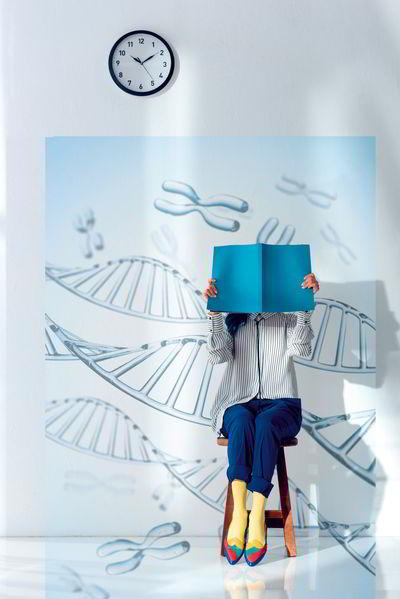 Е. З.: В геноме еще очень много неразгаданного. Мы знаем, какие у нас есть гены, их последовательность. Но какова функция каждого из них и как они взаимодействуют друг с другом, во многом остается тайной. Мировые исследования направлены на то, чтобы понять, как именно регулируется работа генов. Потому что, несмотря на то что клетки содержат одинаковые гены, некоторые из них не проявляются в одних тканях, но работают в других. Например, в мышечных клетках активны только гены, которые необходимы для работы мышц, и синтезируются белки, ответственные за формирование мышцы. А в клетках крови, головном мозге синтезируются совсем другие белки с соответствующими функциями. Это все сложно взаимодействует и представляет большой интерес для ученых.
Е. З.: В геноме еще очень много неразгаданного. Мы знаем, какие у нас есть гены, их последовательность. Но какова функция каждого из них и как они взаимодействуют друг с другом, во многом остается тайной. Мировые исследования направлены на то, чтобы понять, как именно регулируется работа генов. Потому что, несмотря на то что клетки содержат одинаковые гены, некоторые из них не проявляются в одних тканях, но работают в других. Например, в мышечных клетках активны только гены, которые необходимы для работы мышц, и синтезируются белки, ответственные за формирование мышцы. А в клетках крови, головном мозге синтезируются совсем другие белки с соответствующими функциями. Это все сложно взаимодействует и представляет большой интерес для ученых.После того как президент РФ заявил о необходимости масштабной программы исследования генома, на что брошены силы генетиков?
Е. З.: В первую очередь, конечно, необходимы собственные оригинальные исследования по изучению распространенности наследственных болезней в разных регионах, изучение особенностей мутаций и клинических проявлений заболеваний. У нас, например, наследственная болезнь Гоше протекает у пациентов довольно часто с поражением скелета, а в европейских странах это редкость. И нам нужно срочно выяснить, отчего так происходит.
А статистика по врожденным заболеваниям в зависимости от страны и континента различается?
Е. З.: Конечно, есть свои особенности. Иногда болезнь, редкая в одной стране или регионе, может быть абсолютно обычной в другой. Например, средиземноморская лихорадка, талассемия, серповидно-клеточная анемия в центральной части России, Сибири и на Дальнем Востоке — очень редкие болезни. А в Турции, Армении или Греции они могут встречаться очень часто.
Как это объясняют генетики?
Е. З.: На это влияют исторические, культурные и религиозные факторы. В основном это связано с тем, что какая-то мутация в силу различных причин получила распространение в определенной группе. Например, есть понятие «эффект родоначальника», когда один носитель дал начало болезни в какой-то популяции. Иногда это связано с какой-либо катастрофой, в том числе и экологической. Некоторые редкие болезни чаще встречаются в популяции, где приняты близкородственные браки.
Может ли генетическое обследование при планировании беременности предотвратить рождение ребенка с наследственной патологией?
Е. З.: Если речь идет о паре, у которой в семейном анамнезе нет никаких генетических историй, то здесь очень сложно сказать, нужно ли им это обследование вообще. Разумнее сделать тест на носительство наиболее частых болезней. Но здесь нужно учитывать, из какого региона пара.
Допустим, генетические нарушения выявлены у плода во время беременности, что делать в этом случае?
Е. З.: Решение принимают будущие родители. Некоторые проводят перинатальную диагностику, чтобы быть готовыми к появлению больного ребенка.
Как врач отличает генетическую патологию от любой другой врожденной болезни?
Е. З.: Таких характерных внешних особенностей у этих заболеваний нет. Важно заметить наличие сходных симптомов у родственников, прогрессирующий характер течения, мультисистемность поражения, плохой ответ на проводимую терапию.
Сколько времени обычно проходит от выявления проблемы до постановки точного диагноза?
Е. З.: Диагностическая одиссея может длиться годами, даже десятилетиями. Например, в России известны случаи, когда редкий диагноз не могли поставить больше 20 лет! Но если болезнь входит в массовый скрининг, то диагноз можно поставить за несколько дней.
Кстати, неонатологи сейчас упорно продвигают неонатальный скрининг. Какова его роль в выявлении генетических заболеваний?
Е. З.: Неонатальный скрининг не просто продвигают неонатологи, его проходят все без исключения новорожденные. Это обследование на наиболее распространенные врожденные и наследственные заболевания. Такая программа появилась в мире еще в 60-х годах прошлого века. И сегодня в некоторых штатах США и Европе проводят скрининг уже на 30–50 болезней. Россия в этом сильно отстала. Прежде всего потому, что сам скрининг у нас появился только в 80-х годах прошлого века. Изначально анализы брали для выявления двух заболеваний — фенилкетонурии и гипотиреоза, теперь к ним добавили еще исследование на муковисцидоз, галактоземию и адреногенитальный синдром. Нам также нужно расширять список болезней для скрининга. И в первую очередь включать в него те, которые до начала клинических проявлений можно лечить с применением диетотерапии, особых лекарственных препаратов.
Как проводится обследование?
Е. З.: Скрининг проводится на четвертые сутки жизни (это для доношенных детей). Врач берет у младенца кровь из пятки на карточку-фильтр и отправляет анализ в лабораторию неонатального скрининга. Полученные результаты приходят в поликлинику по месту жительства ребенка. Если в показателях есть отклонения от нормы, сообщают семье малыша.

Обычные заболевания всегда легче лечить на ранней стадии. Относится ли это в равной мере к генетическим заболеваниям? Или поломка в гене не имеет временного значения?
Е. З.: Безусловно, имеет. Чем раньше начато лечение, тем большего числа осложнений можно избежать. Возьмем, например, семейную гиперхолестеринемию, когда холестерин повышается в несколько раз. Зная об этом заранее, можно снизить показатель с помощью специальных препаратов и таким образом избежать инсульта, инфаркта. Ели опоздать с лечением, велик риск того, что разовьется атеросклероз сосудов, предотвратить эти тяжелые осложнения будет невозможно. То же можно сказать и о мукополисахаридозе I-го типа. Лечение в первые полгода жизни позволяет предотвратить прогрессирование заболевания или значительно облегчить симптомы. Но в отличие от ненаследственных болезней мутация в гене остается навсегда. Задача врачей — с помощью диеты и препаратов максимально модифицировать течение болезни, затормозить ее, помочь организму скомпенсировать дефект, который есть.
Сейчас появилась такая мода на рождение детей после 40 и даже 50 лет. Поздние роды влияют на развитие генетического заболевания?
Е. З.: Риск генетических заболеваний совершенно не связан с возрастом родителей. Поздний возраст может влиять только на развитие хромосомных болезней, например, болезни Дауна.
В последние годы в нашей стране большое внимания уделяется лечению орфанных, то есть редких заболеваний. Как они проявляются и есть ли шанс повлиять на развитие болезни?
Е. З.: В России заболевание считается редким, если оно зафиксировано менее чем в 10 случаях на 100 000 жителей. Редкие заболевания могут проявиться в любом возрасте, но чаще дебют болезни все-таки случается в детстве. Например, в первые дни жизни проявляются болезни нарушенного цикла синтеза мочевины, с признаками поражения ЦНС, печени и других органов. В раннем детстве — мукополисахаридоз, в подростковом возрасте — болезнь Помпе, Фабри, адренолейкодистрофия. Заподозрить редкий диагноз врач может по некому алгоритму. Например, ребенок часто болеет отитами или какими-то инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей, при этом у него выявлена грыжа. А нам известно, что такое сочетание встречается у детей с мукополисахаридозом — очень редким заболеванием. И это касается всех заболеваний: всегда есть какая-то комбинация симптомов, которая должна насторожить специалиста и направить пациента на соответствующее тестирование. Сейчас это можно сделать удаленно: образцы отправляются даже по почте.

Какие программы, помимо семи нозологий, поддерживают таких пациентов?
Е. З.: Возможностей очень много! При этом, даже если болезни не входят в эти программы, многие пациенты имеют возможность получать лечение, если у них оформлена инвалидность. Также у нас в стране достаточно активные пациентские организации: они оказывают юридическую поддержку людям с орфанными заболеваниями и позволяют пациентам и их семьям объединяться для психологической и информационной поддержки. Конечно, есть некоторые административные проблемы, которые нам нужно решать. Но в целом у нас пациенты с редкими заболеваниями могут получить необходимое лечение.
Сейчас все только и говорят о том, что генетики начинают редактировать геном. Как это происходит, трудно себе представить…
Е. З.: Представьте, что у вас в руках «умные» генетические ножницы, вот с их помощью специалисты очень точно могут вырезать «плохой» участок гена и на его месте создать новый, «правильный». Думаю, в скором времени для многих наследственных болезней будет доступен такой метод генотерапии.
В конце 2017 года уже прошла первая генетическая операция для пациента с мукополисахаридозом 2-го типа в клетке печени. Была подсажена конструкция, которая позволила клеткам синтезировать нормальный лизосомный фермент, который не работал из-за мутации в гене. В последние годы мы еще ближе подошли к лечению болезней крови — гемофилии, порфирии. Разрабатываются генотерапевтические препараты, которые способны принципиально изменить течение заболевания. Мы не можем изменить все гены сразу и решить все проблемы. В первую очередь есть перспективы в лечении тех заболеваний, где этот процесс локализован. Например, болезни, связанные с патологией крови, иммунодефицитные состояния. Для терапии болезней, при которых не хватает определенного фермента, нам необходимо научиться делать так, чтобы кровь стала источником этих ферментов. Если процесс болезни сосредоточен в печени, то мы тоже можем использовать генотерапевтические конструкции, которые будут менять клетки печени. Сложнее дела обстоят с нервной системой.
Как вы думаете, сможет ли медицина когда-нибудь излечивать генетические заболевания?
Е. З.: Излечить может только генотерапия. Все остальные подходы — компенсация метаболического дефекта. Введение недостающего фермента или выведение избытка накопившегося токсичного вещества, диетотерапия, стимуляция работы фермента и т. д. Сейчас мы ждем завершения последней фазы клинических испытаний нового препарата для лечения гемофилии. Если они пройдут успешно, то всего одно введение препарата позволит излечить болезнь.
Я сейчас хотела бы перейти к другой стороне науки генетики. Обычно на гены списывают цвет волос и глаз, наличие кудрей, цвет кожи, те же заболевания. А тяга к алкоголю, агрессивный характер или, наоборот, слабоволие связаны с генетикой?
Е. З.: На гены действительно любят списывать все, как это делал король из фильма «Обыкновенное чудо», оправдывая все свои плохие черты наследственностью. Но если говорить серьезно, то около 30 % наших черт обусловлено генетикой, а 70 % — окружающей средой и социумом. Особенно если речь идет о чертах характера, психологических особенностях.
А как же тогда ген измены, об открытии которого не так давно писали СМИ?
Е. З.: Хотя открытия в области генетики и правда фантастические, про ген измены, конечно, пишут скорее для повышения тиражей изданий. Ну и, наверное, приятно оправдать походы на сторону с точки зрения генетической науки.
Только факты
- Идеальной генетики не существует. В нашем генетическом аппарате скрывается, как правило, от пяти до семи мутаций;
- каждый 50-й россиянин — скрытый носитель мутации в гене муковисцидоза;
- каждый 27-й обладает скрытой мутацией в гене несиндромальной тугоухости;
- каждый 46-й имеет мутацию в гене спинальной мышечной атрофии.









